Единство православия под угрозой: возможные решения
- Вестник
- 29 сент. 2025 г.
- 14 мин. чтения
Автор: Епископ Иов (Бандманн)
Тот, кто в эти дни не замечает темные тучи удрученности и глубокой озабоченности, сгустившиеся над Православными Церквами, наверняка страдает слепотой — вольной или невольной. Единство православия находится в большой опасности и кажется, что никто из несущих ответственность не видит выхода из сложившейся тупиковой ситуации.
Поэтому указать на возможные выходы из данного экклесиологического и даже догматически-триадологического кризиса наших дней — не простая задача. В поиске ответов, подкрепленном молитвой, автор наткнулся на следующее апостольское чтение, которое вело и вдохновляло его в дальнейшей работе:
Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова (Еф 4:1-7).
Прежде чем пытаться истолковать данные строки апостола Павла в качестве ответа на церковный кризиз нашего времени, следует определить проблему, лежащую в основе нынешнего печального состояния Церкви Христовой.
Чему нас учит история Церкви?
Сперва рассмотрим, что в прошлом сохраняло Церковь от разделения в кризисах, подобных современному. Период Вселенских Соборов является основоположным для структуры и самосознания Православной Церкви. Когда внутренние догматические конфликты ставили единство Церкви под угрозу, созывался «Общий» или «Великий собор». Такой собор может считаться высшей церковной инстанцией для формулирования догматических истин и канонов. Теоретически[1] при собрании (потенциально) всех архиереев мировой Церкви дело было не в том, чтобы найти компромиссы или новые решения, но в том, чтобы при содействии Святого Духа единодушно исповедывать «правую веру, отцы преданную». Однако при рассматрении исторических и политических контекстов соборов, легко можно поддаться искушению неверной интерпретации их — хотя бы отчасти — как неких инструментов для решения конфликтов мирских интересов.
Возьмем, к примеру, Никейский Собор 325 г. по Р.Х.. Евсевий Кесарийский, один из первых церковных историографов, подробно и живо описывает это собрание архиереев, ставшее прецедентом для всех последующих Вселенских Соборов. Из описания Евсевия видно, между прочим, св. император Константин, как в преддверии Собора, так и во время заседаний, играл центральную роль: приводить поссорившихся и враждовавших между собой архиереев к единству — к такому единению и единодушию, в которых, в первую очередь, заинтересован был сам император. Ведь после того, как он годом раньше (в 324 г.) окончательно объединил Римскую империю под своей властью, догматические споры и конфликты по поводу епархиальных границ были для него ненужными камнями претыкания на пути к единому в политическом и в религиозном смысле государству. Однако богословский конфликт еще более ожесточал этих действующих лиц. В «Жизни Константина» Евсевий Кесарийский приводит речь императора при открытии собора (см. данный номер «Вестника») и затем продолжает:
Сказав это на языке римлян, (василевс), при помощи переводчика, передал свою речь председательствовавшим на Соборе. Тогда одни начали обвинять своих ближних, другие защищались и порицали друг друга. Между тем, как с той и другой стороны сделано было множество возражений, и на первый раз возник великий спор, василевс выслушивал всех незлобиво, со вниманием принимал предложения, и, разбирая в частностях сказанное той и другой стороной, мало-помалу примирил упорно состязавшихся. Кротко беседуя с каждым на эллинском языке, который равным образом знал, он был как-то сладкоречив и приятен. Одних убеждая, других усовещивая словом, иных, говоривших хорошо, хваля, и каждого склоняя к единомыслию, он, наконец, сообразовал понятия и мнения всех, касательно спорных (предметов).
Сам император приглашал участников на собор, предоставлял архиереям императорские почтовые средства для путешествий и свой дворец в Никее для проведения собора, выступал на заседаниях в качестве миротворца и посредника и, наконец, обеспечил исполнение приговора против еретиков с помощью гражданской власти[2] для того, чтобы в Церкви могло восторжествовать единство. Создается впечатление, что без посредничества императора Никейский Символ веры никогда не был бы составлен.

Продолжая рассмотрение дальнейшей истории Церкви в том же ключе, мы увидим, что и Второй Вселенский Собор (в 381 г. в Константинополе) не сам по себе прекратил арианскую смуту, но что его успех был основан на указе императора Феодосия, который уже до этого провозгласил православную веру как одну из опор государства. Третий Вселенский Собор (в 431 г. в Ефесе) закончился разрывом отношений между архиереями Кириллом Александрийским и Иоанном Антиохийским, так что вновь вынужден был вмешаться император: он приказал взять под стражу обоих упрямых спорщиков и таким образом заставил их примириться, так что последующая переписка между этими патриархами в конце концов была вполне благодушной и Собор задним числом все же оказался успешным.
А вот позднейшее отсутствие единой власти, объемлющей все патриархаты, благоприятствовало великим расколам в истории Церкви и даже являлось их причиной. Христологическая формулировка, выработанная Отцами Четвертого Вселенского Собора для посредничества между александрийским и антиохийским богословием, не смогла воспрепятствовать постепенному политическому и церковному отдалению так называемых Древневосточных Церквей от империи. С уходом Египта и Сирии из-под римо-византийской власти в качестве религии коренного населения окончательно утверждаетсся монофизитство. При этом не нужно винить богословские отличия в политическом отчуждении, скорее наоборот: отход от римской идеи государственности привел в этих областях к тому, что местные представители Церкви стали искать богословские поводы к отделению от имперской Церкви.[3] Наконец, можно бы легко указать политико-исторические причины, сыгравшие роль в постепенно развивающимся расколе между Востоком и Западом.
Таким образом, чем дольше мы рассматриваем данную тему в исторической перспективе, тем больше усиливается то весьма проблематичное впечатление, что единство Церкви невозможно удержать без вышестоящей политической власти.
Страшное подозрение
Данный взгляд на историю Церкви неизбежно приводит нас к следующему вопросу: «Кто или что может нас сегодня вновь объединить при отсутствии „Pax Romana“ или эквивалента императора ромеев?» Данный вопрос становится еще более актуальным, если взгянуть на сегодняшнюю патовую ситуацию, в которой находится православие. Патриархат, который замешан в большенстве проблем и потому занимает пристрастную позицию (в вопросах календаря, автокефалии, диаспоры, примата), одновременно требует для себя исключительного права созыва общего Собора и председательства на нем.[4]
Упомянутый выше вопрос автор задавал не только себе самому, но и некоторым значимым церковным иерархам, священнослужителям и богословам в надежде, что кто-нибудь из них сможет рассеять страшное подозрение в том, что единство Церкви может действительно разрушиться, что сотканный свыше хитон Христов все-таки может разорваться.
В качестве примера можно привести здесь два примечательных ответа. Находясь на Святой горе Афон, автор задал свой вопрос, между прочим, игумену одного из афонских монастырей, наместнику Вселенского патриарха. Его устрашающий ответ был: «Сначала оба патриарха должны скончаться», причем имелись в виду патриархи Варфоломей Константинопольский и Кирилл Московский. Новое поколение могло бы, согласно этому ответу, положить начало новым отношениям между этими патриархатами.
В том же путешествии автор задал свой вопрос митрополиту Филофею Фесалонникийскому (с 2023 г.). Его ответ был богословским: «Святой Дух соединит нас опять.»
На фоне описанных выше, скорее отрезвляющих примеров из истории Церкви, оба ответа породили некоторый скепсис. Оба клирика очевидно не видят принципиальной опасности для единства Церкви, но считают это временными кризисами, которые разрешаться как бы сами, внутренней силой православного единства. Однако взгляд на прошлое, на великие расколы в истории Церкви, как нам кажется, противоречит такой точке зрения. Безысходность современной ситуации, при которой даже Вселенский Собор не представляет практического решения, как кажется, скорее подтверждает противоположность: Единство может разрушаться, Церкви могут откалываться.
Что же собственно сохраняет Церковь в единстве?
В виду этой опасности нам необходимо рассмотреть эту тему глубже и спросить себя, что же все-таки объединяет Церковь, то-есть в чем состоит ее внутреннее единство? Обычно речь, конечно же, о мистическом единстве Тела Христова, объединяемого Духом Святым, которое едино в Евхаристии и вере православной. Однако мы хотели бы присмотреться к конкретным явлениям и силам, которые могут укреплять и утверждать единство Церкви, но и подорвать его и разрушить. Именно в этих моментах деятельное участие человека возможно и даже необходимо.
Авторитет. В Церкви существует иерархическая структура, основанная на апостольском преемстве, обеспечивающая Церкви единство, основанное на достоинстве, уважении, авторитете, иерархическом порядке, братстве, а также, к сожалению, часто и на власти. Эту власть следует однако понимать и практиковать как служение (греч. диакония; Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою (Мк.9:35). Primus inter pares — «первый среди равных» (после отпадения Рима от полноты православия им является патриарх Константинополький) является предстоятелем всего Православия; его важнейшая задача — символизировать и сохранять единство Православия.
Идентитет. Единство веры созидает общность, а Церковь — самобытность. Тело Христово, чьей частью мы являемся, придает этой христианской самобытности, ее своеобразию особую онтологическую реальность.
Общение. Когда мы совмествно совершаем богослужение, поддерживаем дружественные связи и таким образом общаемся, это нас объединяет. И здесь также церковное общение намного превосходит человеческий уровень. Оно ведет нас к общению со святыми всех времен, с сонмом святых и с Самим надмирным (слав. «премирным») Богом.
Политика. Общие политические интересы или идеи могут нас объединять. В течение долгого времени Рим для многих православных народов являлся такой объединяющей идеей и реальностью. Однако политика может нас и разделять.
То, что вера во Святом Духе объединяет Церковь и то, что мистическое Тело Христово осуществляется в Таинстве Евхаристии, несомненно истинно. Однако полагаться на то, что Святой Дух cам нас уж как-нибудь объединит, — такое мышление сдается несколько близоруким, даже беспечным. Авторитет, самобытность, общение и (церковную) политику нужно активно поддерживать для того, чтобы единство сохранять.
Единство, учитывающее все эти аспекты, мы здесь назовем «живой соборностью» и предложим ее в качестве решения нашего современного кризиса.
Живая соборность
Живая соборность, или недостаточность ее, как нам кажется, составляет главную трудность в настоящее время. Эта соборность объемлет, как было сказано, все вышеупомянутые аспекты. Не существует соборности без авторитета и первенства. Нет ее и без самобытности, общей веры, без активно поддерживаемого общения, общей Литургии. В Древней Церкви уже очень рано возникает обязательное предписание, чтобы епископы регулярно собирались и совместно решали важные вопросы.
Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия. […]. — Правило 37 Святых Апостолов апостолов
Данное правило, подтвержденное 1-м, 2-м, 6-м и 7-м Вселенским Собором, является, с разной периодичностью, действительным для каждой соборной церковной структуры. Тот факт, что это требование столь часто повторяется в церковных канонах, показывает, что во все времена были и противоположно настроенные силы. Так, не только епископы, но и священники часто склонны к обособлению в своих епархиях или же приходах, принимая решения по собственному разумению, вместо того, чтобы оставаться открытыми для мудрого совета и даже критического взгляда своих соседей и коллег. Настойчивое повторения этого принципа, кроме того, показывает, сколь важно собираться и совместно решать проблемы, устранять недоразумения путем диалога и, таким образом, поддерживать общение и самобытность.
Кроме того, здесь нельзя обойти вопрос первенства. Кто собирает соборы и кто отвечает за единство? Уже 34-е Апостольское правило находит специфическое решение для чрезвычайно сложной и парадоксальной взаимосвязи между первенством и соборностью, между авторитетом и свободой, применимое не только на уровне Поместных Церквей, но и на всеправославном уровне. Оно должно бы служить и ответом на современную неправильную интерпретацию всецерковного первенства некоторыми представителями Вселенского Патриархата:
Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух.
Данный порядок, при котором никто из епископов ничего не предпринимает без согласия Первого, а Первый ничего не предпринимает без согласия всех, разрешает любое напряжение, тот самый контраст между властью одного над всеми и авторитета всех вместе взятых и независимости каждого в отдельности и направляет его к настоящему единству в единодушии и живой синодальности.
На всецерковном, т.е. на всеправославном уровне также должна царить соборность, при которой принцип автокефалии обеспечивает каждой Поместной Церкви максимальную независимость. При этом институционального или регулярного органа, принимающего решения, которому бы предстоял почетный предстоятель (primus inter pares — первый среди равных), не существует. Однако дело отнюдь не обстоит так, как описывает его русский богослов Н. Н. Афанасьев (скончавшийся в 1966 г. в Париже) в своей спорной статье о первенстве Петра[5], где Православная Церковь выглядит как некая «усеченная пирамида», так что ей, в противоположность к Римо-Католической Церкви, недостает настоящего главы, снабженного соответствующей властью. В тоже время данный порядок протировечит теологумену митрополита Иоанна Зизуласа, пытающегося истолковать «монархию Отца» (учение о Боге Отце как первопричине бытия двух других ипостасей) как образец первенства в Православной Церкви. Авторитет первенствующего вовсе не является источником авторитета других епископов (как в Католическом учении о папстве), но, наоборот, как показывает канон, произрастает из его соборного признания как «главы» («признавати его яко главу») и на высочайшем уровне через установление диптихов Поместных Церквей на Вселенских Соборах.[6] Кроме того, первенство не является вечным Божественным установлением, но возникло по политически-историческим причинам.
Согласно авторам 34-го Апостольского правила Церковь может совмещать в себе противоположности: быть одновременно соборным сообществом и иерархической пирамидой. Она не нуждается в абсолютном правителе кроме ее истинного Главы — Христа. Не нуждается она и в неком заместителе (vicarius Christi); ведь Христос сам присутствует в своем Теле.
Идеал «живой соборности» не ограничивается только архиерейской соборностью. Начиная с середины XIX века в особенности русские богословы, например, А. С. Хомяков, в своих трудах указывают на значимую роль не безгласного церковного народа при защите веры, признании Вселенских Соборов и сохранении единства. Эта роль церковного народа оказывала большое влияние на самосознание Церкви не только со времен указанного признания ее богословами.[7] Так, например, митрополит Московский Филарет (Дроздов) пишет в своем Пространном Катехизисе:
«Все верующие, объединенные священным Преданием веры, все вместе и в наследовании, созидаются Богом в единую Церковь, которая и есть истинная сокровищница священного Предания, или, выражаясь словами ап. Павла, «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины».[8]
Практически ответственность «народа Божия» выражается в рецепции решений архиереев, а также в протесте против соборов, которые на самом деле не были таковыми, или против епископов, поступающих вопреки Евангелию. Монашество также играет эту роль корректива авторитета епископов. В современных уставах, например Русской или Румынской Церкви, признание права народа Божия высказываться выражается в участии мирян в Поместных Соборах.
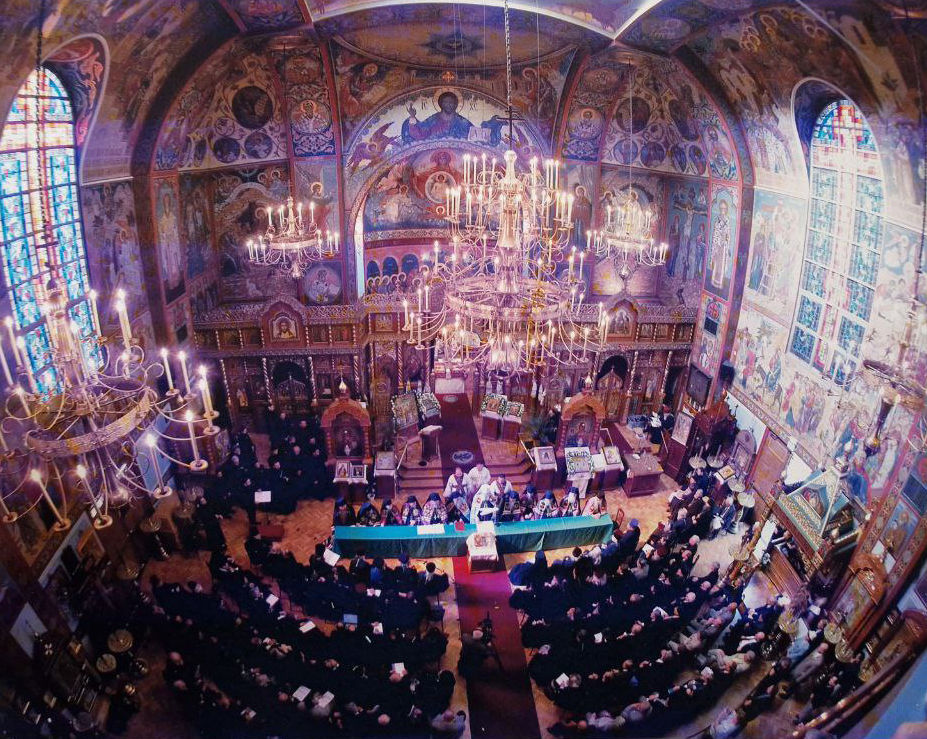
Итак, живая соборность органично объединяет авторитет, самобытность и общение, способствует всем трем объединяющим принципам и пронизывает их действом Святого Духа в Церкви. Иерархия была выработана по исторически-политическим причинам. Структура Церкви следует — часто с большим опозданием — за полическими реальностями. Авторитет этой иерархии, будь то на поместном или на всеправославном уровне, основан на ее соборном поручении и на доверии верующего народа.
Остается еще политика — область, на которую сами Церкви имеют весьма мало влияния. С одной стороны Поместная Церковь может принципиально противодействовать разжиганию ненависти и сепаратизму, однако она не может предотвратить большие геополитические перемены, распад многонациональных государств и культурных пространств или возникновение новых наций.
Виноват ли во всем политический фактор?
В конфликте между Константинопольским и Московским патриархатом политические сили противодействуют единству, и это не только сегодня, но уже с начала ХХ века. Русская Церковь претерпела за это время радикальные изменения: Вначале она с большим трудом освободилась от опеки и стеснения русской державой Петровской эпохи и за короткое время своего возрождения на рубеже веков развила всемирную деятельность, казавшуюся другим Поместным Церквам отчасти угрозой (огромные монастыри на Афоне, Святые места и паломническеи центры в Палестине, Царские храмы в Западной Европе, миссия на Аласке, в Маньчжурии и Японии, Северо-Американская диаспора и т.д.). Затем для нее наступили страшные судьбоносные времена: революция, смерть патриарха Тихона и деление на коммунистический восточный блок и находящуюся под западным влиянием диаспору. В Советском Союзе епископат Московского патриархата стал впоследствии политическим инструментом в руках коммунистического режима. Тесная и вынужденная зависимость представителей Московской патриархии сыграла бесславную и вредную роль как в экуменическом движении, так и в межправославных отошениях. И сегодня МП вновь можно назвать патриотичным и лояльным по отношению к государству.
Вселенский Патриархат после гибели Османской империи политически по-новому ориентировался на запад. Введение нового стиля и целый ряд вмешательств в Поместные Церкви, изначально подчиненные Московской патриархату («Обновленцы» в России, Церкви в Эстонии, Финляндии, Польше, Латвии и на Украине) отражают активную инструментализацию западными силами в Холодной войне и после нее до сегоднешнего дня, направленную главным образом против России и Русской Церкви, но, в конечном счете, приносящую вред всецелой Церкви. Крупнейшая и сильнейшая архиерейская кафедра находится, пожалуй, не в Турции — ей является «Греческая Православная Архиепископия в Америке».
Патриархат потерял свое значение как на малоазийском континенте — на территории нынешней мусульманской Турции — так и по историческим причинам в независимой Греции. В виду этого создается впечатление, что Фанар (Вселенский Патриархат) преследует по сути собственные интересы, находясь в поиске своей роли среди Православных Церквей, в поиске оправдания своего существования как первенствующего Патриархата. Для этого он в своем в высшей степени спорном толковании 28-го правила Халкидонского Собора объявил всю мировую диаспору подчиненной своей юрисдикции.[9] Эту претензию по сей день признает только Элладская Церковь, отказавшаяся от собственной структуры в диаспоре.
Кроме того, Вселенский Патриарх, ввиду своей уменьшающейся пастырской миссии, все больше концентрируется на светской политике и своей роли почетного главы среди православных патриархов. Он стремится усилить ее вес, приписывая себе больше власти, чем ему дозволяют 34-е Апостольское Правило и 28-е правило Четвертого (Халкидонского) Вселенского собора, а также фактически другие Поместные Церкви. Так, он неоднократно позволял себе даровать автокефалию «без общего согласия» всех Поместных Церквей.
Право аппеляции, принадлежавшее Патриарху со времен Халкидонского Собора, «поскольку то был царствующий град», систематически чрезмерно расширяется, доходя до злоупотребления. Клирики и архиереи, запрещенные в священнослужении или лишенные сана в других Православных Церквах, запросто принимаются в клир Константинополя, и их приговор просто отменяется без нового делопроизводства. Старания Вселенского Патриарха быть в первых рядах в экуменическом движении также свидетельствуют о его самооценке как о большем нежели только «первым среди равных». Риторические вылазки, как, например, заявление архиепископа Североамериканского Елпидифора 7 января 2014 г. под провокационным названием «Первый без равных» (primus sine paribus) или речь самого Всел. Патриарха Варфоломея 1-го сентября 2018 г. перед собранием архиереев ВП, в которой он использует такие фразы как «Начало Православной Церкви — Вселенский Патриархат» или «Православие не может существовать без Вселенского Патриархата»[10] должны придавать всему этому некую богословскую легитимацию.[11]
Игнорируя безнадежную ситуацию Патриархата в Турции и связанный с этим кризис идентичности, можно было бы заподозрить, что фанариотами движет «папистская» жажда власти. Однако нам кажется, что только пониманием и доброжелательным отношением можно помочь Вселенскому Патриархату, а также всему православию выйти из кризиса. Если мы ожидаем от первенствующего, дабы он «ничего не творил без рассуждения всех», то и нам, отдельным Православным Церквам, следует стремиться к тому, чтобы «ничего […] не творити без его рассуждения». Кроме того, нам следует требовать от него, чтобы он чувствовал свою ответственность за единство Православия, чтобы предлагал возможные решения настоящих пробллем и, таким образом, предоставлять инициативу ему. Вместо того, чтобы упрекать Вселенский Патриархат в том, что он стал пособником мирской геополитики, следовало бы, например, и Московскому Патриархату признать, что он действует политически предвзято и становится орудием внецерковных интересов. В истории отношений между Православными Церквами в ХХ и ХХI вв, особенно между Московским и Вселенским Патриархатами, все стороны справедливо могут упрекать друг друга в проступках. Однако упреки, даже справедливые, не приближают нас к решению проблемы.
Наказ апостола Павла
Таким образом стремясь заглянуть за кулисы мирской политики и принимать всерьез ближнего с его интересами, нуждами и страхами, а также чувствовать объединяющую силу Церкви, мы придем к живой соборности, к которой призывает нас и св. Апостол Павел в Послании к Ефесянам:
... со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью.
Несмотря на различия и нарушения канонов нам не следует прекращать встречаться, налаживать дружеские, крепкие отношения, выдерживающие нагрузку, вести переговоры, находить компромиссы и не обращать внимание на человеческие немощи отдельных лиц.
... Старайтесь сохранять единство духа в союзе мира.
Воплощать соборное единство, стараться сохранять его означает также, что каждая Поместная Церковь регулярно проводит Соборы, достойные этого названия. Некоторые Церкви в новейшей истории склонны сосредоточивать власть чрезмерно в сане патриарха и не принимать всерьез контрольную функцию Собора. Однако союз мира выражает, как нам кажется, то самое взаимодействие между Первенствующим и Собором, а также между автокефальными Церквами, основанное на взаимном уважении и совместно осознанной ответственности за Тело Христово. «Союз» может выдерживать напор интересов светской политики и груз человеческих немощей, в пользу сохранения единства Церкви литургически (тело) и соборно-общительно (дух):
... Одно тело и один дух,
Кроме того, Церквам следует отводить больше места соборной ответственности и «харизме» зрелого церковного народа и монашества. Если, к примеру, недостает внешней мирской силы, принуждающей Церковь к единству, то вместо этого сам церковный народ может оказывать давление на иерархов, чтобы те оставили пустые политические ссоры и помирились бы с собратьями по вере из других Православных Церквей. Какие для этого существуют возможности — это отдельный вопрос. Однако необходимым условием этого является готовность архиереев прислушиваться, знать свою паству и жить вместе с ней.
... Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
Благодатный дар каждого, «харизма» говорить голосом Церкви, основан на мистическом общении в Чаше Христовой, на участии всех в едином Теле Церкви. При этом необходимо живое двустороннее соединение между всеми членами / иерархическими степенями при обоюдном благоговении перед действием благодати в каждом по мере дара Христова. Постоянно заново открывать, почитать, проводить в жизнь действие Христа и Его Св. Духа — соборно, евхаристически и богословски — это и есть живая соборность, это создает истинное единство Единого Тела Христова.
... Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
Аминь.
[1] См. Например: John Meyendorff, "What is an Ecumenical Council?," St Vladimir's Theological Quarterly 17 (1973), 259-273.
[2] Например осуждение Ария было приведено в исполнение государственной ссылкой.
[3] Римская империя не предоставляла более достаточной защиты от персов и позже арабов, притом все более повышая налогообложение.
[4] Так, эта претензия дала о себе знать в феврале 2020 г., когда партиарх Варфоломей резко упрекнул Иерусалимского патриарха Феофила за его инициативу пригласить всех патриархов с целью решения украинского вопроса на «семейную встречу» в Иерусалим, будто последний тем самым порвал с «принципами, веками принятыми в Церкви». Ему следовало бы, по словам Вселенского патриарха, обратиться в таких вопросах «прежде всего к нам». См. „Ecumenical Patriarch’s tough response to Patriarch of Jerusalem“ in: Orthodox Times, 26. Feb. 2020, 1: https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarchs-tough-response-to-patriarch-of-jerusalem/
[5] N. Afanassieff, La Primauté de Pierre dans l'Église Orthodoxe, Neuchâtel 1960.
[6] Со времени расширения изначальной «пентархии» патриархатов Древней Церкви диптихи составлялись в основном согласно с традицией и общем согласием. Это привело к тому, что на сегодняшний день существуют минимум два варианта списка.
[7] Равеннский документ 2007 – кое в чем спорный – признает в седьмом параграфе: „The whole community and each person in it bears the “conscience of the Church” (ekkesiastikè syneidesis), as Greek theology calls it, the sensus fidelium in Latin terminology. By virtue of Baptism and Confirmation (Chrismation) each member of the Church exercises a form of authority in the Body of Christ. In this sense, all the faithful (and not just the bishops) are responsible for the faith professed at their Baptism.“ Ср. http://orthodoxeurope.org/page/14/130.aspx#2
[8] Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Гл. 18.
[9] См. Истолкование 28-го Халкидонского правила митрополитом сардийским Максимом: Maximos, Metropolitan of Sardes, The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church, Thessaloniki 1976, S. 311.
[10] См. https://orthodoxsynaxis.org/2018/10/24/the-ecclesiology-of-the-ecumenical-patriarchate-in-2018-speech-by-patriarch-bartholomew.
[11] См. Jennifer Wasmuth, die Rückkehr der Tradition. Zur Bedeutung des trinitarischen Dogmas im ökumenischen Kontext, ZThK 116 (2019), 338.









Комментарии